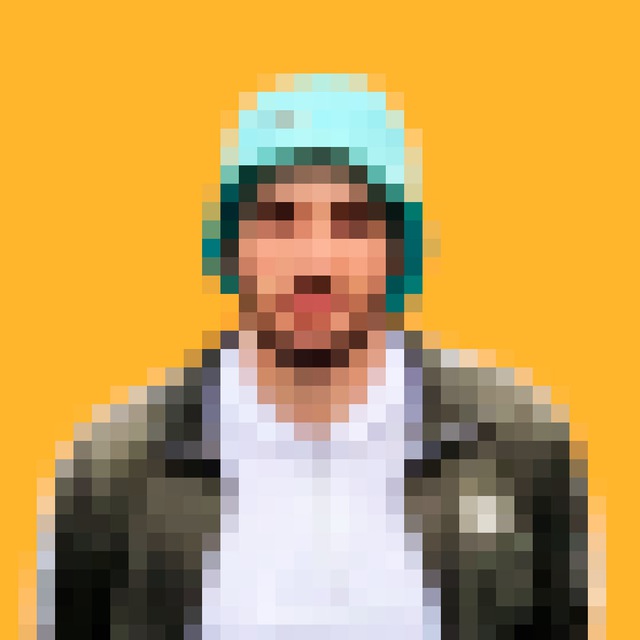Представляем вашему вниманию мнение обозревателя CoinDesk Аджита Трипати, который также является исполнительным директором в компании Binance и ведущим подкаста Breaking Banks Europe. Оригинальная статья была опубликована на сайте CoinDesk.
1. Криптовалюты получают политическую силу
Криптосообщество было право, когда выдвигало свой прогноз о значительном влиянии коронавируса на мировую экономику и общество. Политические лидеры и ВОЗ в течение долгих месяцев не хотели объявлять о глобальной пандемии и отказывались предпринимать решительные действия. В то же время многие известные голоса в криптовалютном Твиттере, включая Balajis, Naval, Twobitidiot и других, предсказывали «повторение Ухани во всём мире».
ВОЗ объявила о «пандемии COVID-19» лишь через три месяца после того, как криптовалютный Твиттер начал высказывать опасения в связи с карантином в Ухани. В Великобритании, где я живу, премьер Борис Джонсон предложил «иной подход», заявив, что нам нужен «иммунитет населения». Его подход активно оспаривался в криптовалютном Твиттере и Reddit. Резкое различие между опасной небрежностью фиатного мира и умением криптосообщества делать точные прогнозы указывает на ментальную структуру людей, которые тянутся к криптовалютам – они любопытны, не удовлетворены текущим статус-кво и больше заинтересованы в новых возможностях.
Политический путь криптосообщества никогда не был лёгким. Существует огромный разрыв поколений между бумерами, которые сегодня делают рынки и экономику, и зачастую такими же иррациональными биткоин-максималистами, которые доминируют в дебатах криптосообществ. Я говорю это по своему личному опыту общения с этими людьми. Такие проницательные крипто-голоса, как Чамат Палихапития и Баладжи Шринивасан, наконец, были услышаны в политических кругах. Они указывали на ценную перспективу, хотя и бросили вызов общепринятому мнению. Вероятно, такой простой сдвиг мог бы коренным образом изменить отношение и подход к криптоиндустрии.
2. Банки станут хранителями биткоинов
Финансовые регуляторы мира всегда крайне осторожно относились к криптовалютам, и банкам всегда нелегко было работать с ними. В Швейцарии такие «криптобанки», как SEBA и Sygnum, смогли обрести некоторую популярность. В Германии более 40 банков изъявили желание получить лицензии на хранение криптовалют. Однако требования Базеля к хранению криптовалют оказались непомерно высокими.
Существовало также предположение о том, что банковская система после Базеля III (т.е., после 2009 года) функционирует хорошо, а проблемы последнего финансового кризиса были решены. Это также означало, что банки должны избегать «незнакомых» и «нестабильных» классов активов, таких как криптовалюты.
«Спасение банков» в связи с COVID и кризис РЕПО, предшествовавший распространению вируса, показали, что Базель III и IV – это не более чем перенос системного риска с банковской системы на теневую банковскую систему. Известные деятели, начиная от председателя ФРС Джерома Пауэлла до легенды макро-инвестирования Рэя Далио, смирились с этим. Кажется, они приняли это за «белого лебедя».
Однако это очередное «смирение», вероятно, приведёт нас к тому, что мы должны будем пересмотреть нашу зависимость от той сложной математики, за которой скрываются горы долгов. Вероятно, и волшебное слово «дефицит» теперь снова должно вернуться в моду и обиход. Чтобы обеспечить долгосрочную стабильность своих балансов, банки обычно выбирают золото; однако многие теперь могут выбрать и биткоин – «цифровое золото».
3. «Розничные CBDC»
В марте, за месяц до карантина в Великобритании, BoE (Банк Англии) выпустил прекрасный документ о потенциальных преимуществах «розничных CBDC». («Розничные CBDC», как я рассказывал об этом ранее, способны спасти «маленького человечка»).
Вскоре после этого некоторые американские законодатели предприняли поспешные попытки включить «цифровой доллар» в счета, предназначенные для оказания прямой помощи американцам. Хотя подобные меры потерпели неудачу, заметьте, что внезапно «цифровой доллар» стал важной частью политической повестки дня.
Один из самых сильных политических аргументов против «розничных CBDC» исторически всегда состоял в том, что основным инструментом денежно-кредитной политики являются банки. Во время текущего кризиса «CBDC, доступные лишь для домашних хозяйств», могли бы легко «отодвинуть» банки. Кризис обнажил сущность и неэффективность банковской системы, которая должна служить своей социальной цели – поддержанию финансовой стабильности.
Кажется, министр финансов Великобритании Риши Сунак изо всех сил пытался помочь «маленькому человечку» – главным образом потому, что банки не сумели доставить средства целевым получателям. Как недавно сообщило издание Guardian, лишь каждая пятая из британских компаний, официально подавших заявки на кредиты, финансируемые государством, смогла получить такое финансирование во время карантина COVID. Программа оказалась слишком медленной и не смогла довести деньги нуждающимся субъектам достаточно быстро.
В течение следующих 3-6 месяцев, когда мы выйдем из карантина, было бы интересно посмотреть, понесут ли такие политики, как Сунак и Джонсон свои «политические расходы» за неспособность банков выручить «маленького человечка». Кажется, после кризиса даже противники розничных CBDC будут внимательнее рассматривать эту идею. "Розничные CBDC" всегда имели смысл, а кризис COVID лишь доказал это.
4. Гармонизация непоследовательных правил
До сих пор в мире регулирование криптоиндустрии в той или иной юрисдикции происходило за счёт непоследовательных и почти спонтанных правил. Это можно назвать минным полем для компаний, которые имеют дело с классом активов, способным почти мгновенно передаваться через интернет.
В настоящее время в Европе большинство стран вынуждено «вписывать» в свои действующие правила директиву 5AMLD, направленную на борьбу с отмыванием денег. Однако, например, Испания пока формально не регулирует криптовалюты; Германия формально характеризует криптовалюты как финансовый инструмент. Это говорит о том, что Европейская директива «О рынках финансовых инструментов» (MiFID) начнёт работать в полной мере раньше, чем думается.
Есть как значительные, так и незначительные вариации 5AMLD от юрисдикции к юрисдикции, и для правильного ориентирования, кажется, требуется «степень доктора философии в Твиттере».
Такой разброс в нормативно-правовых актах может создать интересные возможности для отдельных проектов и субъектов, но навредить криптоиндустрии в целом. Новаторам и так трудно глобально масштабировать свой криптобизнес.
Однако кризис COVID-19, похоже, способен резко перенаправить этот поток непоследовательного регулирования в сторону гармонизации крипто-фиатных рынков.
Например, CEO криптобанка AvantiBT Кейтлин Лонг считает, что такой «сдвиг» может принести большие деньги в криптоиндустрию. Я так же считаю, что институциональные деньги могут принести большую пользу криптоиндустрии.
Однако ещё более важно то, что у нас есть все шансы укоротить путь одноранговых (p2p) и трансграничных платежей. Пандемия COVID-19, несмотря на всю её прискорбность, может возыметь один большой позитивный цифровой побочный эффект.